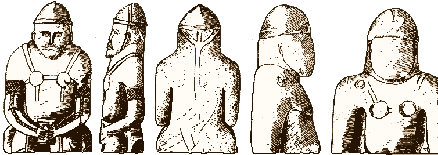ЗА ТО, ЧТО ХВАЛИТ ОН «КУКУШКУ»
Г. Зайнуллина
Татарский государственный академический театр им. Г. Камала за время своего существования принял в своих стенах немало гостей и столь же немало благодарных отзывов от них услышал. Однако думается, такое удачное совпадение тематики спектакля и личности визитера, которое произошло 4 марта 2005 г., в истории театра вряд ли когда случалось. В тот вечер зрителем театрального романа Зульфата Хакима «Немая кукушка» (режиссер Ф. Бикчентаев) стал известный тюрколог Мурад Эскендерович Аджи
Роман, как известно, в 2004 г. стал победителем конкурса “Новая татарская пьеса”, а после премьеры постановка вызвала неоднозначные оценки. Самой резкой была рецензия А. Топорова («Вечерняя Казань») «О чем кукует Камаловский». С его ли легкой руки мнение о «Немой кукушке» как о произведении русофобском у какой-то части общественности сложилось. Особые нарекания вызвала сцена, где главный герой “бьет по морде” оскорбителя своего национального достоинства, такого же, как он, рядового бойца Красной армии. Размашистый удар “под бурные овации зала, который словно ждал этого момента последние четыреста пятьдесят три года”…
Откровенно говоря, я думала, «Немая кукушка» вызовет и у Мурада Аджи бурю негодования. Ведь через его книги красной нитью проходит призыв помнить общие тюркские корни России; он настаивает на существовании универсалий культуры и морали, когда-то объединивших народы Евразии в древнее государство Дешт-и-Кипчак. А в «Немой кукушке» все наоборот: драматург З. Хаким вывел на сцену носителей этноцентрического сентиментализма, порой крайне нетерпимого в отношении проявлений чужой чувственности и чужого опыта. Таковы чеченец Рассуханов из Гудермеса, отказавшийся есть свиную тушенку, украинец Яхно из Сибири, из рода ссыльных и потому “хороший человек”, нелюдимый татарский парень Зайнуллин из деревни Субай, финский татарин Зиятдин, тоскующий по оставленной его родителями родине. Есть в спектакле и русские, каждый из них опять же со своей территориальной спецификой: одессит — веселый космополит Шаталов, ленинградец - интеллигент Лебедев, страшно “далекий от народа”, ну а воронежец (из центра России) Севрюгин — откровенный бытовой шовинист, стукач и зануда, поведение которого само напрашивается на зуботычину.
Попытки заново придать слову “народ” чисто этнографическое звучание, приписать ему свойства “локуса”, имеющего неодолимую склонность к самоизоляции, в наше время не единичны. И лесник, сын лесника Зариф Зайнуллин с его сомнамбулической тягой к уединению на лоне природы — не пустая прихоть драматурга З. Хакима, а выражение центробежных тенденций на постсоветском пространстве. Тех, что проявляют себя в драматических промежутках истории, когда прежний тип универсализма изжил себя, а новый еще не созрел.
Мурад Аджи имел возможность убедиться в нешуточности подобной ситуации буквально перед посещением театра — в здании исполкома Всемирного конгресса татар, где состоялась его встреча с журналистами г. Казани. Во время беседы показательны были вопросы журналистки одной популярной газеты, они выражали настороженность (испытываемую не ей одной) в отношении объединительного пафоса книг Аджи, его идеи возрождении тюркского народа. Дескать, натерпелись мы интернационализма при коммунистах, были на грани ассимиляции, и снова объединяться?! Во имя чего и с кем?
Мурад Эскендерович отреагировал на её замечания резко: «Я не понимаю, о чем вы говорите! Поймите, к здоровому народу никакая зараза интернационализма не пристает!» Его озадачила нотка страха, с которым журналистка произносила слово “ассимиляция”. С точки зрения Аджи, ныне ничто не мешает национальному самовыражению народов: говори на своем языке, сколько душе угодно, пой песни, развивай культуру, пиши, твори. Другое дело, что это требует огромного напряжения, глубоких знаний и, главное, бескорыстного служения, а это уже труд над самим собой. Ведь дядя из Москвы ни за один этнос стараться не будет.
Так что восторг, который вызвала у известного тюрколога «Немая кукушка», оказался для меня неожиданным. «Будто напился родниковой воды, – признался Мурад Аджи, – Ночью долго не мог уснуть от казанских впечатлений. Московские театры, к сожалению, давно выродились в балаган, сосредоточили свой интерес чуть ниже человеческого пояса. А у вас в Казани — настоящий театр, где актеры проживают судьбу своих героев в эмоциональном контакте со зрителем. Сама пьеса являет собой пример здорового, общечеловеческого “национализма”, которого на сцене ровно столько, сколько надо нормальному человеку. Приятно, что нет дешевой политики, нет прогнившего популизма, который уже в зубах навяз. Откровенно говоря, я настраивался на войну: бой, ранение, плен. Вдруг чувствую, инерция ожидания обманута — на поле брани зазвучала песня. И как зазвучала! Я вспомнил одну из своих экспедиций в казахскую степь, зима, вдруг, откуда не возьмись, в небе появилась уточка. Летает кругами и крякает в морозной тишине. Так и здесь, Зариф-кукушка запел свою скромную песню. И от нее стало уютно на душе.
Нечто подобное я испытал 5-7 лет назад, когда отмечали юбилей тюркского каганата, в Москву приехал известный певец Алтая Болот Байрышев. Он запел, и потолок зала поднялся метра на три, стены расширились, и во мне проснулась память о предках. Я увидел их: зажурчала река, засвистел в ушах ветер степи, всадники помчались куда-то в бой. Все было по-настоящему в песне уникального мастера алтайского горлового пения, которое, надо заметить, отличало только тюрков. В сравнении с алтайским певцом или азербайджанскими мугамами, татарская песня в исполнении актеров Р. Тухватуллина и О. Фазылзяна, незатейлива. Но впечатление, тем не менее, дуэт произвел сильное, не меньшее, чем тувинский ансамбль горлового пения Хуун-хуур-ту, который тоже умеет придать звуку сценическое действие».
Удивительным для меня оказалось и то, как М. Аджи отнесся к образу главного героя. Особенно ему запомнилась сцена, где Зариф сам снимает с себя китель с орденами Славы, поняв, что это ничего не значащий для бесчеловечного государства антураж. У меня же с целостностью и непротиворечивостью образа со дня премьеры возникли проблемы. Это оттого, что я воспринимала его с особым пристрастием через личность своего деда Сагди Зайнуллина, бывшего таким же аутистом, как Зариф, любителем в одиночестве бродить по лесу или ночью любоваться звездным небом. Только, в отличие от однофамильца из спектакля, мой дед не махал кулаками налево-направо, а вкладывал себя в модернистский проект построения светлого будущего: в 20-е годы стал студентом первого набора КАИ, затем возглавил группу конструкторов на авиастроительном заводе. Представляю, до чего же обидно было бы ему, технократу-оптимисту, наблюдать, как голос “пересидевших модерн” — лесников, охотников, лыжников и чабанов (профессии персонажей “Немой кукушки”) — приобретает сегодня большую убедительность.
Как бы там ни было, высокая оценка, данная гостем спектаклю, свела на нет мой критический запал и заставила пристальней вглядеться в то, что есть общего в трудах Аджи и в спектакле, поставленном Ф. Бикчентаевым. Оба, ученый и режиссер, вынуждены творить в ситуации “постистории”, а значит, “переписывать время”, разворачивая линейный вектор вспять. Таково свойство нашей современности — осуществлять будущее в “переоткрытии” прошлого: к примеру, из книг тюрколога мы узнали, что Казанская, Владимирская и другие иконы Божьей Матери до XVI века были образами тюркской Умай; что обряды христианства до VIII века справляли на тюркском языке, поскольку все они оформились под влиянием тенгрианства; что равносторонний крест пришел в Европу с Алтая вместе с тюрками… “Пантюркистами” от знания фактов подобного рода люди не становятся, зато убеждаются в другом: в невозможности “единого зеркала мира”. С образом непрерывного непротиворечивого прошлого, привитого общеобразовательной школой, им приходиться расставаться.
Ф. Бикчентаев в «Немой кукушке» также моделирует время как разбитый на фрагменты лабиринт. Зариф Зайнуллин живет в пространстве без начальных координат, где минувшее и настоящее спутаны в клубок. Постоянный возврат в театральном романе к перипетиям, казалось бы, незначительной советско-финской войны 1939 года учит восприятию каждого события как важного своей неповторимостью. Уникальность происходящего на сцене усиливает точно воссозданное обмундирование того времени, опознавательные знаки и эмблемы из коллекции В. Куранова. То есть «Немая кукушка» создана на том же основании, что и современная философия истории, - на презумпции уникальности исторического события, чья самобытность не может быть — без разрушающих искажений — передана посредством всеобщей схемы.
Отказаться от единого смысла истории и от только лишь рационального его постижения — эту задачу выполняют книги Мурада Аджи, у них тоже свое миропонимание и свое пространство. Тюрколог мечтает перевести их на татарский язык, чтобы сельская интеллигенции РТ свободно ознакомилась бы с новыми для себя знаниями. Он не считает свои труды за учебники, за некое собрание незыблемых истин, назначение его книг — в пробуждении мысли и интереса к “забытой” тюркской истории.
«Звезда Поволжья» №9, 11 -- 16 марта 2005 г.