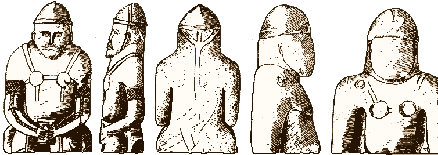Биография в фотографиях
В поисках главного
С середины 70-х годов начинается сотрудничество со многими известными журналами: «Знание – сила», «Вокруг света», «Новый мир» и др. Но «Вокруг света» остается самым любимым журналом географа Аджиева. С этим изданием он сотрудничает на протяжении 17 лет, занимаясь популяризацией своей науки. Здесь отрывки из публикации 1983 года.

Географ в XX веке

На сегодняшней встрече в «Кают-компании» выступают: заместитель председателя Совета по изучению производительных сил при Госплане СССР, доктор экономических наук Энрид Борисович Алаев; вице-президент Географического общества СССР, доктор географических наук Сергей Борисович Лавров; кандидат географических наук Александр Викторович Хлебников; кандидат экономических наук Мурад Эскандерович Аджиев.
Аджиев. Нашей встрече предшествовал один весьма любопытный эксперимент. На улице прохожим был задан один-единственный вопрос: “Что вы знаете о географии?” Ответы последовали потрясающие. Люди почему-то ничего не знали о современной географии, видно, далекие школьные знания забылись, новых нет.
Какова же она, география конца XX века?
С этого вопроса мы и начнем нашу встречу. Но сначала небольшая справка. Обратимся за ней к «Советскому энциклопедическому словарю», который отмечает, что «“география” — это система естественных и общественных наук, изучающих географическую оболочку Земли, природные и производственно-территориальные комплексы и их компоненты…».
Можно сказать, что географ — это человек, изучающий землю и все, что на ней происходит. Поэтому-то и есть физическая география, есть экономическая, политическая, медицинская… Любая. Даже география спорта. Самостоятельным разделом географии стало страноведение, изучающее этнос, быт, историю, культуру, экономику, природу сразу какой-то одной страны или группы стран… Многогранна жизнь — многогранна и наша наука!
Значит, современна» география не “просто” наука, а это синтез наук о природе и обществе.
Лавров. Вы начали с рассказа об уличном эксперименте, и я невольно продолжу его, только аудитория у меня будет другая. У нас в Ленинградском университете новый заведующий, придя на кафедру океанологии, обнаружил, что студенты прекрасно знают технику исследований, хорошо освоили океанологические дисциплины, но совсем забыли слово “география”. Парадоксально, для них техника познания была первична, а цель исследования, его”«фон” — вторичным, второстепенным…
…Аджиев. Да, социально-экономическая география изучает дом Человечества. В поле зрения нашей науки сам человек, его природное и хозяйственное окружение, прямые и обратные связи между природой и обществом. Казалось бы, все это эмоциональная, неорганизованная информация? Нет. Осмыслить ее по плечу науке.
Конечно, если социально-экономическая география превратится в интегральную науку, то, на мой взгляд, по-новому придется учить географов-экономистов. Они должны с первого дня в университете чувствовать себя энциклопедистами, которым нужны глубокие знания по физике, химии, математике, биологии и, конечно, по географии, истории, философии, политической экономии, искусству. Иначе не будет настоящего географа XXI века.
Хлебников. Видимо, кроме развития самой науки Географии, очень важен аспект, связанный с эффективностью пропаганды, ее достижений. Пример географической некомпетентности людей в первую очередь, вероятно, следует связать со слабыми сторонами пропаганды профессии географа и самой науки Географии.
Аджиев. Александр Викторович, ваши слова навели на интересное “открытие”: где начинается география для каждого человека? В книге! Книга уводила когда-то нас, мальчишек, в джунгли Амазонки и в дебри сибирской тайги, мы тогда узнавали впервые о делах великих и бесстрашных людей, о путешественниках. Можно спорить, была, ли то романтика или мечта, но факт остается фактом — мы стали географами во многом благодаря книгам Дефо, Жюля Верна, Обручева, Грина, Паустовского…

В 1983 году в издательстве «Мысль» вышла книга «Сибирь: ХХ век».
Она сыграла большую роль в судьбе Мурада Аджи, о чем он рассказывает спустя почти 20 лет в другой своей книге «Без Вечного Синего Неба». Без «Сибири…» географа Мурада Аджиева не было бы писателя Мурада Аджи. Знание того, как шло освоение Сибири в наши дни, помогло понять, как шло ее освоение в далеком прошлом. Так возникла идея о Великом переселении народов, зародившемся на Алтае

В студии «Молодой публицист» при Союзе писателей СССР.
Руководили студией известные журналисты: Евгений Богат и Юрий Черниченко. За плечами молодого публициста Аджиева была уже сотня публикаций в журналах, брошюры и книги. Примерно 1983 год.


Публикации Мурада Аджиева не раз отмечались коллегами-журналистами как лучшие

В 1989 году выходит книга «Siberia rediscovered» (Сибирь, открытая заново) на английском языке.
Выход книги на иностранном языке — серьезный успех. Но оставаться в рамках одной темы не в характере Мурада Аджиева
В том же 1989 году в научном журнале «Материалы гляциологических исследований» (№ 65), в издательстве «Знание» в серии «Знак вопроса» (№3), а до этого — в журнале «Наука и жизнь» (1988, № 10) публикуется гипотеза Аджиева о концентрации тяжелой воды (дейтерия) в природе.
Здесь обложка одного из изданий и отрывок из публикации «Тяжелая вода! Почему бы и нет!»

Тяжелая вода — это изотопная разновидность воды. В ней вместо обычного водорода (протия) присутствует его изотоп — дейтерий, а он вдвое тяжелее. Известны десятки изотопных разновидностей воды. Они различаются между собой. Теоретически можно встретить даже сотни “сортов” воды. Но только теоретически. Не все изотопы водорода и кислорода известны науке, тем более некоторые из них не долговечны. Всего у водорода может быть пять изотопов, ныне открыты два — дейтерий и тритий. Оба получаются из протия.
Значит, в природе есть протиевая (обычная), дейтериевая (тяжелая) и тритиевая (сверхтяжелая) вода. Но тритий редок, это нестабильный изотоп, поэтому сверхтяжелой во ды почти не бывает. По одним расчетам выходит, ее несколько литров на планете, а по другим — несколько наперстков. В общем, не известно сколько.

В одной из командировок от журнала «Вокруг света».
Очерки рождались в поездках по стране. Фотокорреспондент не расставался с фотоаппаратом. 1990 год
В поездках по стране и проснулась генетическая память кумыка Аджиева. Кавказ и его люди стали близки ему. Здесь отрывок из очерка 1990 года о табасаранах. Есть такой народ на Кавказе, о котором мало кому известно в России. Они – тоже россияне!

Молчаливые табасараны
Нестерпимый зной растекался по долине. Воздух струился, как вода. И был прозрачен, как вода. Вдали виднелись размытые очертания серо-голубых хребтов, они касались такого же раскаленного серо-голубого неба и тонули в солнечном свете.
Небо. Горы. Это — Табасаран. Люди и земля. Точнее, полоска земли, уместившаяся в бассейне реки Рубас. «Рубас-чай», — поправил бы меня любой местный житель.
Табасаранов на свете всего десятки тысяч, микроскопические доли процента от населения планеты. Но не численность возвеличивает народ, каждый народ велик, каждый уникален.
А это очерк 1991 года о лезгинах. Еще один кавказский народ, история которого не прочитана до сих пор. А сколько на Кавказе таких забытых народов? И все они — тоже россияне.

Лезги из Тагирджала

«Лезги» — слово большое, с оттенками. И очень древнее. У народов Азербайджана оно означает «горцы, живущие к северу». Какие именно — неважно. Любые горцы, живущие к северу. В Грузии есть сходное слово «леки», им тоже пользуются, когда хотят сказать о жителях Южного Дагестана. А в самом Дагестане здешний народ называют лезгинами.
Я ехал из Баку в Махачкалу. Ехал душным знойным летом, когда высокое солнце словно катается по земле и выжигает все вокруг — желтая полупустыня тянулась вдоль шоссе. Ни деревца, ни кустика, ни клочка тени над головой. Только солнце и духота.
Будто и нет моря, хотя оно рядом — прохладой от него не веет. Не чувствуются и горы. Над ними тоже раскаленный воздух. Серые горы тянулись от края до края, насколько хватало глаз. То здесь, то там от шоссе отворачивали проселки — к морю или к горам. Унылая картина, безрадостная, взору зацепиться не за что.
Несколько раз шоссе подходило к каналу с густой, мутной водой — тягучей и серой казалась вода в этом спекшемся мире. Канал идет из Самура, горной реки, отделяющей Азербайджан от Дагестана. Эта река, как грустно сказал мне лезгинский поэт, еще в XIX веке отделила лезгин от… лезгин. Поэтому теперь есть азербайджанские лезгины, есть дагестанские. И вроде бы ничто не говорит об их различиях, а они существуют. Ведь различия, как и сходства, надо уметь искать, присматриваться к ним и уметь чувствовать.
О кавказском народе чаруж не слышали прежде даже этнографы. Став специальным корреспондентом журнала «Вокруг света», Мурад оставался исследователем, он и открыл чаружей миру.

Талыш, Чаруж и другие

Его глаза чуть сузились, заблестели, он снова взглянул на меня, но уже испытующе, даже с настороженностью, не понимая, шучу или говорю с ним серьезно.
— Азад, укради меня снова, – повторил я. – Ну, как в тот раз. Мы стояли на вокзале Ленкорани, стояли и напряженно смотрели друг другу в глаза, как тогда, в минуту знакомства, не обращая внимания на приехавших и встречающих. Наконец снова засветилась его обвораживающая улыбка, и мы обнялись, как старые добрые друзья.
Наше знакомство было не вполне обычным — в 1989 году Азад вместе с товарищами поздним январским вечером похитил из гостиницы Ленкорани корреспондента журнала «Вокруг света». Собственно, благодаря дерзости Азада тогда и получился мой очерк (См. «Вокруг света» № 7⁄89.) об «исчезнувшем» народе — ведь похищенным корреспондентом был я.
С этой публикации 1991 года о кумыках Мурад Аджи ведет отсчет тюркских страниц в книге своей жизни. То был прорыв в его сознании и одновременно шаг в неведомый мир прошлого.

Кумык из рода Половецкого, или Открытие самого себя

Вдали, в розовом тумане восходящего солнца, среди степи виднелось что-то неясное, огромное: не то синеющий лес, не то застывшее облако. Но то был не лес. И не облако.
— Яхсай, — безразлично произнес шофер. И я почувствовал, как заколотилось мое сердце.
Вот уже обозначились дома. Много низких домов с покатыми крышами, с огромными верандами, окруженные садами. Вот уже ясно различались трубы, над которыми зависли белые клубы дыма… А сердце не унималось, искало выход наружу.
Аул Аксай — родина моих предков. Здесь родился мой прадедушка Абдусалам Аджиев (Пусть простят меня предки, ведь по кумыкским обычаям я не имею права называть старших полным именем. А как иначе рассказать нашу историю?), и все радовались его появлению: без устали палили из ружей в воздух, гарцевали, праздновали несколько дней подряд, как велел обычай, — человек родился! Сюда, в Аксай, прадедушка привез свою первую жену — чеченскую красавицу из рода Битроевых, Батий, а всего у него было четыре жены, Батий была старшей. Первенца они назвали Абдурахманом, в честь моего прапрадедушки, потом у них родилось еще одиннадцать детей, но лишь шесть выжили. Среди них — Салах, мой дедушка. А вот дети Салаха родного Аксая уже не знали. Дядя Энвер родился в Санкт-Петербурге, потому что там дедушка учился на инженера, там он и женился. Отец мой увидел свет в Темир-Хан-Шуре, тогдашней столице Дагестана, где ненадолго поселилась после Петербурга молодая семья инженера, ведь бабушка закончила консерваторию, была пианисткой, а в Аксае ей не хватало бы общества. Тогда окружению придавалось очень большое значение…
С тех пор столько воды утекло. Далеко разбросала плоды наша аксайская яблоня. Когда я ехал в аул, то не знал о ее щедрости, даже не догадывался — в нашем доме, как и во многих других домах, не принято было вспоминать. Никогда! Ничего!
Я родился и вырос в Москве, закончил университет, защитил диссертацию, объездил страну вдоль и поперек и всю свою жизнь верил, что история фамилии Аджиевых началась после 1917 года… Долго же тянулась болезнь.
К счастью, есть голос крови! Искать, свои корни я и поехал в Аксай, старинное кумыкское селение на севере Дагестана…

Время надежд.
Уже вышел очерк о кумыках и позади участие в Международном симпозиуме «Право и этнос» (1991), где Мурад Аджиев выступил с докладом о проблемах этнической самоидентификации на примере кумыков
В этой публикации 1992 года журналист Аджиев отступает на второй план перед исследователем Аджиевым. По сути, статья представляет собой план-конспект будущих книг писателя Мурада Аджи, географа по образованию и по духу.

Кресты Беленджера

Мурада Магомедова в Махачкале не было. Говорят, летом его всегда трудно застать в городе, что, впрочем, и неудивительно, он же археолог, а археологи летом в поле, в поиске, и если что-то находят, потом весь год живут только этим, тщательно исследуют находки, показывают друг другу на конференциях, а в свободное время пишут статьи и книги.
Книга Мурада Магомедова (Магомедов М.Г. Живая связь эпох и культур, 1990.) попала ко мне случайно и в счастливую минуту; она на сей раз привела в любимый Дагестан, а потом в кумыкское селенне Чирюрт… Чирюрт — селение как селение, ничего особенного, в нем я бывал и раньше, бывал, как многие, ни о чем не догадываясь, ничего не ведая. Не задумываясь даже, что означает слово «чирюрт».
Там, где сомкнулись равнина и горы; там, где буйный Сулак утихает и его берега покрывают песок с галькой; там, где кончаются горные дубравы и начинается степь, прикрытая редким кустарником; там, на границе двух миров — равнины и гор, — нашел себе место Чирюрт.
Этот очерк 1993 года заслуживает того, чтобы привести его полностью. В нем весь Мурад.

По дороге на Чермен

Штрихи одной войны
Сперва казалось, что в Осетии начался какой-то праздник… Не по-будничному пустое шоссе тянулось вдоль железной дороги. За окном вагона оставались поселки, в них тоже не было признаков будней, жители сидели по домам, будто готовились к торжествам, даже мальчишки и те куда-то подевались с улиц. Лишь утки да коровы вольничали в то утро в осетинских поселках.
Несколько раз, правда, видел пожилых людей, вскапывавших огороды, но делали это они осторожно, украдкой, чтобы никто из соседей не увидел и не осудил. Никто не работал… Но, оказывается, не работать можно не только в дни праздников, и в дни войны тоже. Начало ноября 1992 года здесь выдалось именно таким — военным.
Я никогда в жизни не видел, как начинается война. А начинается она, выходит, вот так, почти по-праздничному — сбивается привычный ритм жизни. И все.
Только внешние перемены и примечаешь поначалу. Они, те перемены, за окном, зримые, все остальное — пока эмоции.
Эмоции — разговоры соседей по купе и сводки по радио. Эмоции — вооруженные группы мужчин на перронах станций. Даже бетонные ряды на шоссе, и они — эмоции, потому что ты видишь их словно на экране телевизора. Ты еще далек от них, ты остаешься как бы в стороне, изолированным в вагоне скорого поезда.
Лишь после первых шагов по перрону Владикавказа я почувствовал себя участником новой жизни, которая уже началась здесь. Проверка документов, сизая дымка над городом, время от времени где-то ухающие снаряды. Война.
Ехал писать этнографический очерк о древних аланах, а попал на войну… Щедрой становится ныне жизнь на новые впечатления.
Пока подъезжали к городу, наверное, не я один тайно терзался единственной мыслью — как лучше, лежать или стоять при обстреле поезда? Из-за любого куста могли послать густой букет свинца от “Калашникова»”.
Однако никто из пассажиров не прятался, никто ни о чем не спрашивал, а все липли к окнам, пытаясь разглядеть в придорожных кустах засаду.
Уже на перроне, перед выходом на привокзальную площадь, лихие ребята-гвардейцы с автоматами наперевес вглядывались в лицо каждого приезжего, надеясь выявить среди нас врага.
Но какие мы враги? И с каких пор мы вдруг стали врагами? Мы же жители одной страны, мы все одинаковые. Внешне по крайней мере одинаковые.
Особенно осетины у ингуши, они очень похожи друг на друга — никаких заметных отличий… Чему удивляться — соседи, веками живущие здесь.
Гостиница «Кавказ», где я загодя — еще до войны! — заказал себе номер, стояла на границе “ингушского” Владикавказа. Город, как известно, почти семьдесят лет назад был поделен надвое, но где проходила тайная граница, никто не помнил. Потом, после 1944 года, когда репрессировали ингушский народ, об этой границе вовсе забыли. Сейчас вспомнили, и люди детально пытаются прочертить ее на планах города.
И она уже появилась, эта граница. Я убедился в ее ральности первой же ночью. Вернее, еще вечером, до комендантского часа, когда отправился раздобыть себе еду. (Буфет и ресторан в гостинице не работали, кафе и магазины в округе тоже были закрыты… А и вправду, чем не праздник?) Ходил по пустынной улице, не ведая, что хожу по приграничной полосе, на которой не выставлено обозначение, я еще не вошел в военную жизнь и не знал ее правил.
Оставив попытки поесть, я свернул в парк — он за гостиницей. Вековые тополя, высаженные вдоль аллей, приглашали к раздумью. Ни души. И тишина, редкая для города.
Лишь артиллерийские раскаты да короткие автоматные очереди, доносящиеся откуда-то с окраины, взрывали эту тишину. Не верилось, что в четырех автобусных остановках шел бой.
Не верилось и в другое, отчего холодный пот потом покрыл затылок. Я гулял по аллее, находясь на мушке у ингушских снайперов.
Ночью они дали сражение, их поддержали боевики, сидевшие по соседству в засаде на крыше университета. Но я не знал о них, и они не тронули меня.
Почему не убили? Счастливый случай, выпадающий всякому хотя бы раз в жизни? Нет, вероятнее иное — причина в моей шляпе! Я заранее знал силу своей обыкновенной фетровой шляпы с чуть приподнятыми полями.
Во Владикавказе жители приняли негласное правило: мужчины-осетины носят кепки, а ингуши — шляпы. Чтобы всегда различать своего и чужого… Когда нет национальной одежды, придумывают и такое, особенно при конфликтах.
Так, фетровая шляпа, которая, между прочим, очень хорошо простреливается, спасла мне жизнь. А стрелять те ингушские ребята умели. Ночью в парке, прямо под окнами гостиницы, они дали бой регулярной российской армии и лишь на рассвете отступили.
«Когда в городе снайперы, не ходите по середине тротуара, держитесь ближе к домам. Так им труднее целиться».
«Еще совет: следите за машинами. Особенно, которые медленно едут,— учил меня в гостинице паренек-осетин, взявший на себя роль добровольца-инструктора.— Они выискивают, кого убить из автомата…»

Честное слово, хорошие советы. И ко времени. В те дни я убедился в их пользе — мы же ничего не знаем, что и как нужно делать при обстреле. А судя по ежедневным сводкам Штаба обороны города (или как его там?), действительно были случаи убийств из проезжающих автомобилей.
Те, кто не внял этим простым советам, на себе, прямо на улицах убеждались в их нехитрой правоте.
Несколько дней я вживался в эту новую, безумную жизнь, познавал ее правила. Помню, вышел как-то из гостиницы, прошел немного по улице; чуть передо мной шли два осетинских гвардейца, они патрулировали город, вдруг одному из них показалась подозрительной светлая «Волга», он что-то крикнул, машина не остановилась. Лязгнул затвор — и машина остановилась…
Как же просто, оказывается, останавливать машины!
Когда войска отогнали вторгшихся ингушских бойцов от города, во Владикавказе был праздник. Около гостиниц пожилой осетин возбужденно, от души дал очередь из автомата. С соседнего дерева полетели, как подрубленные, ветки.
Праздновали победу и по-другому. Мне говорили, в гвардии кто-то праздновал ее на “бэтээрах»”, с автоматами. Были раздавленные, были убитые… Радость, она безгранична. И безрассудна.
С того дня победы стреляли только по ночам, да и не так азартно, как прежде. Однако днем люди все равно ходили с оглядкой. Еще до темноты улицы быстро пустели. Комендантский час можно было и не вводить.
Бои откатывались на восток, к границам Ингушетии, туда смещался интерес политической жизни. А столовые, кафе Владикавказа все равно не работали. Даже рынок был закрыт.

В Совете Министров Северной Осетии нам, группе оголодавших журналистов, разрешили поездку по освобожденным районам. Желающих, правда, набралось немного, побаивались диверсантов на дорогах — появились и такие.
Мой слух резанули слова — “освобожденные районы»”… От кого освобожденные? От сограждан? От вчерашних соседей?
Война очень быстро делит людей на своих и врагов.
Сперва нам, журналистам, предложили ехать на “бэтээре»”. Но сидеть в “консервной банке” удовольствия мало — ничего же не видно. После долгих уговоров, переговоров, ожиданий и согласований нам наконец дали автобус, сопровождать который должны были два “бэтээра” — спереди и сзади.
Однако сопровождение вышло иным. Автобус пристроили к хвосту танковой колонны, которая шла на Назрань, столицу Ингушетии. Тридцать легких танков впереди — царское сопровождение!
Разрешили доехать до селения Чермен, оно в двенадцати километрах от Владикавказа. Там только-только закончился бой, и селение было вновь осетинским.
Через каждый километр на шоссе баррикады — чьи, осетинские ли, ингушские? — теперь около них стояли российские солдаты, “бэтээры»”, легкие танки.
Перед въездом в Чермен валялись горелые легковушки, матрасы, ковры, заляпанные грязью, шоссе перегораживал завал из тракторов и сельскохозяйственной техники, но для наших танков этот завал — не проблема.
Привычный пейзаж войны…

Чуть в стороне, в селении Донгарон, еще шел бой. Цепкий, изнурительный бой. На измор. Там, в домах, как нам сказали, и засели ингушские боевики. Они, видно, автоматами и гранатометами стремились доказать свои права на родные дома. По ним методично били “бэтээры»”, короткими очередями — солдаты.
Некоторые дома горели. Высоченные столбы черного дыма поднимались к самому небу и растекались по нему. Над селением висела огромная черная туча из дыма и душ убитых.
Красивым был Чермен и богатым. Его называли смешанным селением. Около трех тысяч осетин и чуть больше ингушей жили здесь бок о бок, деля кусок хлеба. Местные осетины одни из первых приняли сюда вернувшихся из ссылки ингушей, дали им кров, работу.
А сейчас те же осетины и ингуши яростно стреляли друг в друга — их разделила война.
Кто лучше стрелял, мне сказать трудно, так же как трудно сказать, кто лучше работал в колхозе. Осетины ни в чем не уступали ингушам.
Из полутора тысяч дворов в Чермене я не видел ни одного бедного, неухоженного. Наоборот, один дом соревновался с соседним своей архитектурой, убранством и продуманным хозяйством. Еще недавно так было.
Ныне обезлюдели улицы Чермена, отгорели дома после вчерашнего боя. Запах огромного пожарища стоял всюду. Ошалевшие овцы, очумевшие коровы бродили тут и там. Около одного дома выл на цепи пес…
Десятки сожженных домов и автомашин. Зачем? Раздавленные коровы. Зачем? Огромная свиноматка, убитая и изуродованная кем-то. Детская коляска около дороги со следами крови. Неподалеку новый велосипед и простреленная кепка…
Мы оставили Чермен быстро, слишком трудно видеть все это. Порой казалось, что не было никакого селения, а был сон, неправдоподобный, как кино о войне.
Проехав с километр за околицей, около разбитого поста ГАИ, наши танки встали. Перед ними чернела толпа ингушей. Человек двести-триста стояли под моросящим дождем и низко, исподлобья, смотрели на свой Чермен, подчеркнуто не замечая танки и нас.

Солдаты быстро оттеснили толпу, чтобы танки прошли дальше, а наш автобус остался, здесь же был конец его маршрута, разрешенного властями Осетии. Впереди начиналась Ингушетия.
Восемь танков остались охранять перекресток, а с ним и невидимую границу Северной Осетии. А буквально рядом, там, куда гаишники ставили проштрафившиеся автомобили, под наскоро сделанным навесом сидели ингушские аксакалы. Они говорили о жизни, не обращая внимания на протекающую перед ними жизнь.
Скрывать не буду — выходить из автобуса не хотелось. Каждый из нас желал оттянуть эту минуту (мы же были первыми журналистами, приехавшими в Ингушетию со стороны Владикавказа). Но и уезжать, не поговорив с ингушскими беженцами, было бы преступлением. Мне, как старшему по возрасту, нужно было выйти из автобуса первым и спокойно начать переговоры.
Я сразу же окунулся будто в горячий поток. Несчастные, потерявшие все люди окружили меня плотным кольцом. Проклятье и ненависть источали их молчаливые лица. (Видимо, меня приняли за какого-то начальника, раз все начали кричать.)
Опять шляпа выручила. Не убили, не растерзали, хотя и могли.
— Кто такой?
Я представился. Тишина. Потом опять все разом заговорили, каждый желал выплеснуть свое горе и облегчить сердце.
Эти обездоленные люди меньше всего походили на жестоких боевиков. Обыкновенные крестьяне, только очень несчастные и обманутые. Кто-то из них, конечно же, стрелял, кто-то жег и убивал…
Я три часа объяснял людям, что, как бы они ни стреляли в осетин, какие бы проклятья ни посылали в их адрес, все равно они останутся соседями. И других соседей у них не будет!
Теперь как жить? Кто первым простит? И простит ли?
Не знаю, кто вырастет из 14-летнего мальчишки, расстрелявшего из автомата двадцать четыре заложника. Пацан, для одних тут же превратившийся в героя-мстителя, для других — в гнусного убийцу.
Не знаю, какие сны теперь увидят те, кто в гневе и ненависти рубил головы детям, кто уродовал тела убитых, кто под покровом ночи или дыма грабил соседа, тащил все, что попадалось под руку.
Не знаю… я слишком многого не знаю о человеке на войне. Война, как выясняется, двулика — зло и доблесть смешиваются в ней. И не отличишь.
Последнюю надежду на очерк я оставил во Владикавказе, вернее, в пригородах его, когда попытался самостоятельно вырваться из города. Мне нужно было в горы, подальше от отвлекающей войны, чтобы начать работу.
На автовокзале нашел отходящий в Тбилиси автобус, его должны были сопровождать два «Жигуленка» с автоматчиками. Однако когда мы отъехали километров пять-семь, наше сопровождение предательски скрылось. Очереди из автоматов остановили переполненный автобус. К счастью, стреляли по колесам.
Вооруженные люди выгнали всех пассажиров на дорогу, началась проверка документов. И — раскрылся очередной обман, вернее, военная хитрость.
Всех осетин захватили в заложники. Меня и двух греков отпустили… Опять шляпа выручила! И документы. Но испытывать судьбу я больше не рискнул. Слишком уж все обманчиво и уродливо на этой совсем не праздничной войне.
Мурад Аджиев | Фото Николая Федотова
Николай Сергеевич Федотов — фотокорреспондент газеты «Поколение» из города Орла — человек неспокойной солдатской судьбы. В 1972 году проходил военную службу во Вьетнаме, а двадцать лет спустя снимал в зоне конфликтов Приднестровья и Северной Осетии.